Воспоминания Бажанова
Бажанов Евгений Петрович сын Бажанова Петра Игнатьевича, который в 1957-1963 годах являлся первым заместителем, а в 1963-1971 годах – председателем исполкома горсовета Сочи (мэр по нынешнему).
Выдержки взяты произвольно и в большей степени о быте сочинцев в те года.

И вот наше семейство в Сочи (1952 год). Совершаем первый поход в магазин. Заходим в гастроном № 1 (известный по имени его директора как Поцелуевский) и мгновенно погружаемся в мир аппетитнейших запахов и невиданных деликатесов. В продаже десятки видов колбас и сыров, черная и красная икра, рябчики, фазаны, куропатки, разносолы. Ошеломлена вся семья и особенно, конечно, дети. Родители разное повидали на своем веку, а мы с сестрой никогда в жизни не лицезрели такого изобилия!
«Гастроном № 1» (Поцелуевский)

Закупив кое-что из богатого ассортимента Поцелуевского гастронома, держим путь к базару у морского вокзала. Там калейдоскоп красок и запахов. Диковинные фрукты: алыча, инжир, хурма, гранаты, мушмула, персики. Свежая рыба. Парное мясо. Восточные сладости.
Сестра интересуется у родителей, откуда такое изобилие. Они дают уклончивый ответ, и только годы спустя объяснят. Во-первых, Сочи любил Сталин, и, на радость вождю, частенько отдыхавшему на Черноморском побережье, город снабжался по-особому. Во-вторых, Сочи был закрытым городом, для въезда в него требовалось специальное разрешение. Прежде чем папу перевели на работу из Львова в Сочи, его проверяли целый год различные органы. Отдыхающих прибывало на курорт мало, и все они жили и питались в санаториях. В-третьих, денег у сочинцев не хватало, чтобы роскошествовать, большая часть продовольствия оставалась для них недоступной.
После смерти Сталина, в марте 1953 года, фортуна немедленно отвернулась от черноморских гурманов. Сочи открыли и одновременно лишили привилегированного снабжения. Местные фрукты и овощи, конечно, не исчезли, они продолжали произрастать во дворах жилых домов. Но со снабжением многими другими продуктами стали случаться перебои. За сахаром приходилось выстаивать в километровых очередях. Помню, как-то томился на подступах к сахарному прилавку полночи и полдня. Номер очереди мне записали на руку, и каждый час устраивалась перекличка пронумерованных граждан.
Периодически город оставался без картофеля и колбасы. Масло в госторговлю почти не поступало, а на базаре и оно, и все другое (включая картофель) стоило заоблачно дорого. В начале 1960-х годов в категорию дефицита перешел и хлеб. В магазинах «красовались» только черные ржаные слойки с изюмом. К середине 1960-х годов положение с продовольствием в Сочи начало исправляться.
Я, кстати, в каникулярное время в 1961-1962 годах трудился на молкомбинате Центрального района Сочи. Предприятие было допотопно оборудовано, имело низкую производительность. Мы, рабочие, практически вручную мыли стеклянные молочные бутылки, выкупленные у потребителей. Рабочие же устанавливали бутылки на конвейер и отслеживали на движущейся ленте, как в них наливалось молоко, снимали замеченный брак (бутылки с отбитым горлышком, деформированными крышками из фольги, недолив молока и т.п.). Порой мы отвлекались, оставляли конвейер без присмотра.
Так, проблемой оставалось снабжение населения мясом. Оно, правда, широко продавалось на базаре, но стоило слишком дорого для простых смертных. Поэтому сочинцы обращали взоры на мясников из госторговли. Наши сверстницы считали их лучшими, самыми выгодными и перспективными кавалерами. Остальные граждане тоже пытались дружить с мясниками, задаривая их сувенирами, оказывая встречные услуги. В условиях дефицита все труженики сферы услуг являлись важными персонами в обществе, но мясники особенно.

В начале 1970-х годов «пепси-кола» появилась в сочинской торговле и приобрела популярность. Действовали факторы не только «запретного плода», знаменитости этого прохладительного напитка, его происхождения из самой Америки, объекта жгучей зависти, а также внутренней, скрываемой убежденности советских граждан, что все американское самое лучшее. Ну и кроме всего прочего, в Советском Союзе тогда с прохладительными напитками было туго. Брали любой, появлявшийся на прилавке.
Продавалась «пепси-кола» не везде. Среди городов-счастливчиков фигурировал Сочи, в частности, потому что разливали «пепси» в бутылки на заводе, расположенном неподалеку от Новороссийска. Сочинцы и отдыхающие выстраивались за заморским зельем в длинные очереди. Отдыхающие развозили «пепси» во все уголки Советского Союза.
Имелись в Сочи и отечественные прохладительные напитки. Мы в детстве увлекались сладкой газированной водой. Наливали ее из замысловатых аппаратов, а позднее – выдавали автоматы, расставленные в общественных местах. Вода с малиновым, яблочным и другими сиропами стоила три копейки и казалась очень вкусной.

В условиях продовольственного дефицита трудно создать идеальную систему общественного питания. В 1950-х годах в Сочи насчитывалось всего полдюжины ресторанов и дюжина столовых. Рестораны имели скучный, стандартный интерьер, но выглядели более-менее чисто. А вот столовые… От них на версту несло пищевыми отходами. При этом, чтобы попасть и в рестораны, и в столовые, приходилось отстаивать в многочасовых очередях. Отдыхающие с утра занимали очередь в какое-нибудь предприятие общественного питания, мчали на пляж, затем к обеду возвращались и дожидались возможности утолить голод.
В первой половине 1960-х годов положение стало быстро меняться к лучшему. Строительство новых кафе, закусочных, столовых, ресторанов – все это дополнительно дало тысячи мест. Добавьте к этому расширение сети магазинов, ларьков, буфетов. Свои добрые руки они протянули прямо к «рабочему месту» отдыхающего на пляже. Там можно выпить кефир, съесть горячую сосиску, котлету".

Кафетерии – стильные, красивые – заинтересовали сочинскую молодежь. Модницы из числа школьниц и их кавалеры взяли за привычку засиживаться в этих заведениях. Там они с томным видом попивали черный кофе и листали французскую газету (коммунистическую «Юманите», другие в СССР не попадали). Это считалось высшим шиком. Кофе только входил в рацион советских граждан и все еще воспринимался как экзотический заморский напиток. В обществе присутствовало предубеждение против него как идеологически чуждого, вредного продукта.
«Лазурный». Один из немногих в Советском Союзе он работал круглосуточно. Мэру удалось получить соответствующее разрешение Москвы со ссылкой на то, что такой ресторан нужен для привлечения в Сочи иностранных туристов. В этой же связи в ресторане выступали «звезды» эстрады, которым позволили не ограничиваться обычным, идеологически выдержанным репертуаром. Посещали же ресторан отнюдь не только интуристы, а весь советский «бомонд», отдыхавший в Сочи.
Другой первоклассный ресторан – «Старая мельница», оседлал вершину горы Бытха. П.И.Бажанов лично руководил разработкой концепции, дизайна, интерьера ресторана. В архивах папы я нашел служебную записку, в которой говорилось: «Как представляется, ресторан „Старая мельница“ должен выглядеть следующим образом: большая мельница с вращающимися, скрипящими крыльями. За плетнем – подсолнухи, кукуруза, арбузы, огородное пугало. На ветхом срубе висит конская сбруя, лежат дрова. На крыше гнездятся аисты. Во дворе посетителей встречает мельничиха в старинном русском наряде. Она ведет гостей в хату мельника, сажает за срубленный из дуба стол. К столу подходит мельник в косоворотке и красных сапогах, обслуживают гостей дочери мельника, тоже в традиционных одеяниях».
Вместе с ведущими кулинарами отец составил меню ресторана: соленья, домашняя колбаса, отварная говядина, жареные цыплята, вина, квас и т.д. По настоянию мэра от близлежащего санатория Министерства обороны к «Старой мельнице» проложили асфальтированную дорогу и пешеходную тропу среди чудесного парка. Через некоторое время в ресторане сделали землянку, восстанавливающую фронтовую обстановку Великой Отечественной войны.

К концу 1970-х годов, ситуация в городе-курорте стала меняться к худшему. У власти оказались люди нечистые на руку, которые в конце концов были отправлены за решетку. Но об этом поговорим позднее. Пока же отмечу, что разложение в сочинских верхах не могло не начать распространяться на все сферы жизни.
Мой одноклассник рассказывал, как он за взятку был назначен руководить знаменитым «Кавказским аулом» и командовал рестораном. При нем настоящие блюда стали подаваться только коллегам, дельцам из сферы обслуживания. Это клиенты первой категории. Ко второй относилось всякого рода начальство. Его потчевали объедками. Недоеденные салаты оливье и недопитая «пепси-кола» – все шло в ход при сервировке стола для начальства.
«Что касается таких, как ты, – продолжал друг детства, – очкариков, живущих на убогую советскую зарплату, то мы стараемся вас в ресторан не впускать вообще. Ради этого придумали входные билеты. Увидит кассир твои очки за три рубля и сочувственно сообщает, что билеты кончились. Ну а если очкарик все-таки прорывается в ресторан, то мы его кормим самыми негодными отбросами, да еще и обсчитываем по-крупному».
В тех случаях когда внутрь ресторана удавалось прорваться без писем, блата и взяток, посетителей поджидали суровые испытания.
В кабинете директора ресторана «Огни Сочи», тоже крупного взяточника, на стене появилось переходящее знамя ударника коммунистического труда. Сидя под знаменем, директор совершал сделки с вверенными ему деликатесами, т.е. пускал налево черную икру, красную рыбу, колбасу-сервелат. А в зале посетителям объясняли, что предложить им на обед нечего. Как-то при мне в кабинет вбежал взволнованный администратор и пожаловался, что группа москвичей разбушевалась, требует еды.
– Дай им яичницу с хлебом, и пусть или уймутся, или убираются по-хорошему, – небрежно скомандовал ударник коммунистического труда. – Нет от этих нахалов покоя!
Если же в общепите и угощали, то подчас весьма неаппетитными блюдами. В вышеупомянутом сочинском ресторане «Кавказский аул» нашей компании подали вместо цыплят-табака куски покрытой волосами, полусырой курицы. Мой сосед, повар в ресторане «Горка», признавался, что мочится в тесто при приготовлении пельменей. Зачем? Ради спортивного интереса!
Еще один знакомый по детству в начале 1980-х годов хвастался своими «подвигами» в роли бармена на прогулочном катере. На винных бутылках он подменивал этикетки. Под видом дорогих «Черных глаз» сбывал дешевый портвейн, смешанный с густым чаем (для придания напитку нужной черноты). Если отдыхающий заказывал коктейль, то в стакан сливались любые попавшие под руку остатки. «Я, – рассказывал бармен, – наблюдал, как эти приезжие пижоны из Москвы и Ленинграда со своими чувихами томно, через соломинку посасывают коктейли, и про себя хохотал. Вот козлы!

В начале 1950-х годов в сочинских продовольственных магазинах продавались некоторые деликатесы. С промтоварами дела обстояли гораздо хуже. Ведь деликатесы (черная и красная икра, дичь, колбасы) были своими, советскими. Промтовары тоже реализовывались отечественные, но в отличие от продуктов питания высоким качеством они не блистали, да и ассортимент их не отличался разнообразием.
Фото 1956-го года

Женщинам предлагали рейтузы из синей или зеленой байки, бесформенные толстые чулки, допотопные туфли, духи одной марки „Красная Москва“. Готовая одежда в продаже отсутствовала, надо было обшиваться самостоятельно или с помощью частных, не совсем легальных портних. Но для этого требовались ткани, а за ними приходилось охотиться, простаивая в очередях днями и ночами. Счастливчикам доставались ситец, штапель, крепдешин с невыразительным блеклым рисунком. Ассортимент мужских изделий сводился к фуражкам, тяжелым башмакам, паре тканей (габардин, сукно), одеколону „Шипр“. Детских товаров не существовало в природе. Молодые родители сами мастерили пеленки, ползунки, распашонки, коляски.
После смерти Сталина в 1953 году новые руководители СССР поставили вопрос о выведении легкой промышленности из полного загона. Что-то стали выпускать государственные предприятия. Возник и теневой бизнес, подпольные цеховики, которые, игнорируя официальный запрет на частное предпринимательство, изготавливали кое-какой ширпотреб. Особую прыть проявляли сухумские умельцы. Сочинцы в массовых количествах посещали столицу Абхазии и приобретали там из-под полы, с рук одежду и обувь. Мама, собирая в 1957 году сестру Вику на учебу в новочеркасский вуз, достала в Сухуми вегоневую (из отходов шерсти) кофточку и лаковые туфли.
Тогда же в сочинском порту стали пришвартовываться первые круизные теплоходы с интуристами. Их встречали толпы горожан. Зарубежные гости швыряли с палуб на пирс носки, трусы, майки, жевательные резинки, а местные ребята (да и взрослые тоже) дрались за право обладания этими „сокровищами“. Интуристы, наблюдая за потасовками, скалили зубы и щелкали фотокамерами.
Постепенно морских интуристов становилось в городе все больше, и они вызвали к жизни фарцовщиков. Последние выторговывали (или отнимали силой) у иностранцев разнообразный дефицит и перепродавали его доморощенным „стилягам“. В моду вошли джинсы, особенно с фирменными наклейками „Lee“ и „Levi's“. Обладатели этих штанов, а заодно итальянских нейлоновых рубашек и плащей, окрещенных „болоньями“, превратились в самых желанных кавалеров для девчат.
– Ирка, – кричала красотка-соседка подруге с балкона, – а я познакомилась с Юркой!
– Что за Юрка?
– Да ты чё, сдурела? Это же тот, у которого „левиз“ и бирюзовая „болонья“!
А модницы гонялись за импортными туфлями на толстой подошве и американскими сигаретами «Мальборо», «Винстон», «Кент». Поскольку добыть это курево не всегда и не всем удавалось, модницы впихивали советские сигареты в американские «фирменные» пачки. И щеголяли ими на пляже и танцплощадках, в парках и барах. Ценились иностранные кофточки, свитера, нижнее белье, часы, мебель, обои, да и почти другой товар «из-за бугра». Слово «импортные» звучало как синоним высокого качества.
В начале 1980-х годов я отправился в ГАИ на техосмотр „Волги“, прихватив с собой набор душистых китайских стирательных резинок. В СССР таких тогда не было; отечественные плохо пахли и еще хуже стирали. Думал, порадую гаишников. Поставил машину на стоянку отделения ГАИ, подошел к будке инспектора, протянул документы на машину и после короткой паузы положил рядом заготовленный сувенир.
– Это что? – спрашивает милиционер.
– Резинки!
Инспектор, не долго думая, вынимает из пачки одну из стирательных резинок и забрасывает ее себе в рот. Мне аж дурно стало. Пытаясь предотвратить скандал, кричу:
– Товарищ лейтенант, это не жевательная резинка, а стирательная!
– Да? – невозмутимо откликается инспектор, – а жуется ничего. И вкусная, гадина!
С трудом уговорил его вынуть резину изо рта. Лейтенант тут спрашивает:
– А она хорошо стирает?
– Отлично, – отвечаю, а сам волнуюсь, вдруг, нет.
– И чернила берет?
– Берет, товарищ лейтенант. Говорю, а беспокойство, что провалю техосмотр, продолжает нарастать.
Но резинка не подвела. Инспектор быстро и дочиста стер ею целое слово, написанное чернилами. И остался очень доволен. Проштамповал мне техпаспорт, даже не подойдя к машине.
Вот такие времена были! Попробовал бы я сейчас задобрить инспектора ГИБДД резинкой, стирательной или жевательной, будь она хоть трижды американской или китайской!
В Сочи иностранный ширпотреб, пусть в ограниченных масштабах, но все же попадал и в государственную торговую сеть. Чтобы добиться этого, мэр П.И.Бажанов с коллегами обивал пороги начальников в Госплане, министерствах финансов и внешней торговли, в других высоких инстанциях. Там иногда шли навстречу, но в обмен на многочисленные услуги. Одни требовали выделения их ведомству земли на Черноморском побережье под строительство домотдыха, другие желали льготных путевок своим сотрудникам, а заодно и родственникам в сочинских санаториях и т.д.
В итоге Сочи получал больше импортных товаров, чем подавляющее число других городов СССР. В 1960-х годах в сочинской торговой сети появились югославские мебельные гарнитуры, богемское стекло, польская парфюмерия, модная женская одежда из ГДР, индийские ткани, бельгийские мужские костюмы. Отдыхающие жадно набрасывались на эти товары, сетуя, что у них дома такое добро „днем с огнем не сыщешь“.
Мощно ворвался в сочинскую жизнь рок-н-ролл, позднее эстафету подхватил твист. Танцевали их повсеместно. С нами боролись учителя и газеты, инструкторы горкома ВЛКСМ и бригадмильцы. Безуспешно. Сумасшествие лишь усиливалось. Наиболее изощренные тем временем ударились в джаз. В моем классе учился парень из простой семьи. Отца не было, мама работала медсестрой в санатории. А сын с утра до вечера играл на саксофоне в полуподпольном оркестре и постоянно на школьных уроках пропагандировал звезд американского джаза, от Дюка Эллингтона до Кэнни Борелла. Заодно он восхвалял все американское.
Как-то на уроке обществоведения учительница спросила, как мы представляем себе людей коммунистического общества. К доске вышел мой одноклассник-саксофонист, достал из кармана фотографию мускулистого мужчины и полуголой женщины и заявил: «На фото «Мистер Универсум» Стив Ривс, чемпион мира по культуризму, и звезда Голливуда Мэрилин Монро. Такими, как они, и должны быть люди коммунистического завтра».

После разговора о питании сочинцев в 1950-1960-е годах логично вспомнить, сколько и что народ пил.
Сразу признаем, что пил много. Выпивали отдыхающие, прибывавшие на побережье расслабиться. В сочинской газете „Черноморская здравница“ была ежедневная рубрика „Гости вытрезвителя“. В ней рассказывалось об алкогольных похождениях самых различных и, как правило, заслуженных людей – профессора из Москвы, авиаконструктора из Киева, терапевта из Минска, морского капитана из Владивостока. Гостей вытрезвителя штрафовали, и если они отдыхали в курортном учреждении (санатории, пансионате и т.п.), то лишали путевок и отправляли восвояси. Вдогонку летела депеша о „художествах“ гражданина на курорте.
Сочинцы тоже уважали алкоголь. „Приезжие гуляют, а мы что хуже“? – вопрошали местные поклонники „зеленого змия“. Некоторые угощались на работе, большинство – дома. На нашей улице устраивались пирушки – то свадьбу гуляли, то дни рождения отмечали, то кумовьев с Кубани приветствовали. Иногда на эти мероприятия приглашали нас, подростков. Мама не отпускала меня, восклицая: „Сначала будет пьянка, а затем потасовка, да еще с ножами и топорами“. Мама оказывалась права.
Многие ровесники из нашего двора, увы, тоже увлекались спиртным. Сосед Женя, напившись, обязательно лез в драку. Другой сосед, Сережа, рос в строгой казацкой семье, где родителей принято было называть на „Вы“, беспрекословно им подчиняться, вести себя смиренно. Но стоило парню подрасти, начать зарабатывать на жизнь, как и он испортился. Напившись, бродил по улицам, выбирая кого-нибудь из встречных в качестве жертвы, и остервенело избивал.
Пили в Сочи не только много, но и не очень качественные напитки. В домашних, часто антисанитарных условиях изготавливали самогон, брагу и вино. В грузинских семьях гнали чачу, виноградную водку. Я дружил с грузином Ревазом, и когда бывал у него в гостях, родители парня неизменно угощали меня чачой, приговаривая: „Водку малолеткам пить нельзя, а чачу можно, она полезная!“ На самом деле чача была плохо очищена и к тому же издавала неприятный запах, который долго витал вокруг употребившего это зелье. Иногда Реваз приносил чачу и бутерброды с аджикой в школу, и тогда пировал весь наш класс.
Из магазинного спиртного особой популярностью пользовались кубанские портвейны и другие крепленые вина. Красное вино народ называл „чернилами“, белое – „дерматином“. И заслуженно – вино было ужасным, но зато очень дешевым и убойным, за что его и уважали.
Что касается меня, то я в течение недели втихаря сливал из папиных бутылок разные напитки в одну посудину. Получался дикий коктейль из коньяка, наливок, ликеров, вина. С приятелями мы распивали эту смесь в выходные дни где-нибудь у моря или в кафетерии. Случалось, что угощались и одеколоном, это считалось проявлением мужественности.
Кстати, в сочинских барах тоже подавали весьма оригинальные коктейли, состоявшие из целого букета мало совместимых жидкостей. Например, коктейль „Кубанский“: 30 гр. коньяка „Арарат“, 30 гр. ликера „Шартрез“, 20 гр. наливки „Малиновая“, 50 гр. „Советского шампанского“, 20 гр. вишневого варенья. Что замешивали в коктейль на самом деле, „Арарат“ или щедрую порцию денатурата, особой роли не играло. Все равно получалась бурда, которая если не убивала, то тошноту уж вызывала точно.
Мы прибыли в Сочи из западноукраинского города Львова. После шикарного львовского железнодорожного вокзала, выполненного в классическом стиле, сочинский смотрелся жалко: одноэтажная будка у перрона – вот и весь вокзал. Нашу семью усадили в автобус и повезли мимо деревянных хаток, грубо сколоченных из досок, частично покрытых штукатуркой. Сестра Вика, привыкшая к пышной львовской архитектуре, поинтересовалась у взрослых: „Когда же кончится деревня и начнется город?“ Сопровождавший нас местный энергетик пояснил: „Это и есть город Сочи“.
Трехэтажный дом в Крестьянском переулке (ныне – улица Войкова), куда поселили нашу семью, выглядел белой вороной на фоне окружающих трущоб. Конечно, в Сочи тепло, и в трущобах жить не столь ужасно, как в более холодных широтах. Но граждан донимали иные напасти. По весне обычно сонная река Сочи, напоенная талыми водами с гор, просыпалась, выходила из неукрепленных берегов и заливала первобытные жилища до крыш. Под дощатыми потолками бараков плавали матрацы и табуретки, а люди в ожидании милости природы ночевали под открытым небом. Особенно страдал густонаселенный район от места, где сейчас расположен городской рынок, до впадения реки в море.

Район пользовался дурной славой эпицентра преступности, и туда, действительно, страшно было заходить, особенно в квартал, где ныне находится Центральный почтамт и до недавнего времени стоял кинотеатр „Спутник“.
Похоронив Сталина, обновленное советское руководство принялось мириться с Белградом. И вот на белоснежном теплоходе югославский вождь прибывает в Сочи. В преддверии столь эпохального события лихорадочно прихорашивали город. Буквально в одну ночь был ликвидирован огромный базар у морвокзала, и на освободившейся площади, тоже в мгновение ока, разбили пышный сквер – с деревьями, кустарниками, цветами. А еще были снесены хибары в районе морвокзала, вычистили улицы, покрыли свежей белой краской бордюры тротуаров.
Встречать маршала Тито на площади у морского причала собрался чуть ли не весь город. Перед народом выступили и сам высокий гость, и сопровождавший его член советского руководства Анастас Микоян.
Отец находился на трибуне рядом с ораторами, а я с мамой и сестрой стоял в толпе на площади. Я хорошо запомнил яркую, страстную речь Иосипа Броз Тито на отличном русском языке. А вот выступление Микояна вызвало у меня замешательство: он говорил с таким сильным акцентом, что я почти ничего не понял. И я спросил маму: «Так кто же из них иностранец, Тито или Микоян?»

При всей важности санаторного хозяйства П.И.Бажанов перенес акцент на развитие сети гостиниц. В то время как капвложения в санаторный сектор увеличивались на 25% ежегодно, в гостиничный – на 200%. „Санатории, – разъяснял мэр, – очень затратны и мало вместительны. За счет гостиниц мы сможем обслуживать дополнительно десятки тысяч отдыхающих“.
В течение десятилетия (1960-1970 гг.) Сочи украсился 19 комфортабельными гостиницами: „Сочи“, „Чайка“, „Жемчужина“, „Восход“, „Магнолия“, „Приморская“ (вторая очередь), „Прибой“, „Москва“, „Ленинград“, „Платан“, „Хоста“, „Кубань“, „Россия“, „Черноморская“, „Маяк“, „Бирюза“, „Камелия“, „Горизонт“, „Бригантина“.

Но получалось далеко не все так, как хотелось и требовалось. Я перечитываю папины статьи за 1960-е годы в главной сочинской газете „Красное знамя“ (затем переименованную в „Черноморскую здравницу“). Раз за разом мэр критикует строителей за срыв плана, долгострой, некачественную отделку, нарушение технологического процесса, удорожание объектов. В статьях вскрываются и причины проблем. Неспособность стройтрестов как следует организовать дело, правильно спланировать сроки и объемы строительства в течение года. Наплевательское отношение некоторых руководителей к обеспечению жильем своих сотрудников. В данной связи чаще других упоминаются железнодорожный узел станции Сочи, трест ресторанов, контора связи, курортпромторг, пивзавод.
Конец 60-х. Адлер. В районе Фабрики курортных товаров

Под личным патронажем П.И.Бажанова была создана сувенирная фабрика, в ней было налажено производство различных изделий из тиса, самшита, кости, пластмассы, ракушек.
Магазин курортных товаров

Текст взят тут
Фото взято тут, также тут
Топик на Привете о мероприятии посвященному 100-летию со дня рождения Петра Игнатьевича
Выдержки взяты произвольно и в большей степени о быте сочинцев в те года.

И вот наше семейство в Сочи (1952 год). Совершаем первый поход в магазин. Заходим в гастроном № 1 (известный по имени его директора как Поцелуевский) и мгновенно погружаемся в мир аппетитнейших запахов и невиданных деликатесов. В продаже десятки видов колбас и сыров, черная и красная икра, рябчики, фазаны, куропатки, разносолы. Ошеломлена вся семья и особенно, конечно, дети. Родители разное повидали на своем веку, а мы с сестрой никогда в жизни не лицезрели такого изобилия!
«Гастроном № 1» (Поцелуевский)

Закупив кое-что из богатого ассортимента Поцелуевского гастронома, держим путь к базару у морского вокзала. Там калейдоскоп красок и запахов. Диковинные фрукты: алыча, инжир, хурма, гранаты, мушмула, персики. Свежая рыба. Парное мясо. Восточные сладости.
Сестра интересуется у родителей, откуда такое изобилие. Они дают уклончивый ответ, и только годы спустя объяснят. Во-первых, Сочи любил Сталин, и, на радость вождю, частенько отдыхавшему на Черноморском побережье, город снабжался по-особому. Во-вторых, Сочи был закрытым городом, для въезда в него требовалось специальное разрешение. Прежде чем папу перевели на работу из Львова в Сочи, его проверяли целый год различные органы. Отдыхающих прибывало на курорт мало, и все они жили и питались в санаториях. В-третьих, денег у сочинцев не хватало, чтобы роскошествовать, большая часть продовольствия оставалась для них недоступной.
После смерти Сталина, в марте 1953 года, фортуна немедленно отвернулась от черноморских гурманов. Сочи открыли и одновременно лишили привилегированного снабжения. Местные фрукты и овощи, конечно, не исчезли, они продолжали произрастать во дворах жилых домов. Но со снабжением многими другими продуктами стали случаться перебои. За сахаром приходилось выстаивать в километровых очередях. Помню, как-то томился на подступах к сахарному прилавку полночи и полдня. Номер очереди мне записали на руку, и каждый час устраивалась перекличка пронумерованных граждан.
Периодически город оставался без картофеля и колбасы. Масло в госторговлю почти не поступало, а на базаре и оно, и все другое (включая картофель) стоило заоблачно дорого. В начале 1960-х годов в категорию дефицита перешел и хлеб. В магазинах «красовались» только черные ржаные слойки с изюмом. К середине 1960-х годов положение с продовольствием в Сочи начало исправляться.
Я, кстати, в каникулярное время в 1961-1962 годах трудился на молкомбинате Центрального района Сочи. Предприятие было допотопно оборудовано, имело низкую производительность. Мы, рабочие, практически вручную мыли стеклянные молочные бутылки, выкупленные у потребителей. Рабочие же устанавливали бутылки на конвейер и отслеживали на движущейся ленте, как в них наливалось молоко, снимали замеченный брак (бутылки с отбитым горлышком, деформированными крышками из фольги, недолив молока и т.п.). Порой мы отвлекались, оставляли конвейер без присмотра.
Так, проблемой оставалось снабжение населения мясом. Оно, правда, широко продавалось на базаре, но стоило слишком дорого для простых смертных. Поэтому сочинцы обращали взоры на мясников из госторговли. Наши сверстницы считали их лучшими, самыми выгодными и перспективными кавалерами. Остальные граждане тоже пытались дружить с мясниками, задаривая их сувенирами, оказывая встречные услуги. В условиях дефицита все труженики сферы услуг являлись важными персонами в обществе, но мясники особенно.

В начале 1970-х годов «пепси-кола» появилась в сочинской торговле и приобрела популярность. Действовали факторы не только «запретного плода», знаменитости этого прохладительного напитка, его происхождения из самой Америки, объекта жгучей зависти, а также внутренней, скрываемой убежденности советских граждан, что все американское самое лучшее. Ну и кроме всего прочего, в Советском Союзе тогда с прохладительными напитками было туго. Брали любой, появлявшийся на прилавке.
Продавалась «пепси-кола» не везде. Среди городов-счастливчиков фигурировал Сочи, в частности, потому что разливали «пепси» в бутылки на заводе, расположенном неподалеку от Новороссийска. Сочинцы и отдыхающие выстраивались за заморским зельем в длинные очереди. Отдыхающие развозили «пепси» во все уголки Советского Союза.
Имелись в Сочи и отечественные прохладительные напитки. Мы в детстве увлекались сладкой газированной водой. Наливали ее из замысловатых аппаратов, а позднее – выдавали автоматы, расставленные в общественных местах. Вода с малиновым, яблочным и другими сиропами стоила три копейки и казалась очень вкусной.

В условиях продовольственного дефицита трудно создать идеальную систему общественного питания. В 1950-х годах в Сочи насчитывалось всего полдюжины ресторанов и дюжина столовых. Рестораны имели скучный, стандартный интерьер, но выглядели более-менее чисто. А вот столовые… От них на версту несло пищевыми отходами. При этом, чтобы попасть и в рестораны, и в столовые, приходилось отстаивать в многочасовых очередях. Отдыхающие с утра занимали очередь в какое-нибудь предприятие общественного питания, мчали на пляж, затем к обеду возвращались и дожидались возможности утолить голод.
В первой половине 1960-х годов положение стало быстро меняться к лучшему. Строительство новых кафе, закусочных, столовых, ресторанов – все это дополнительно дало тысячи мест. Добавьте к этому расширение сети магазинов, ларьков, буфетов. Свои добрые руки они протянули прямо к «рабочему месту» отдыхающего на пляже. Там можно выпить кефир, съесть горячую сосиску, котлету".

Кафетерии – стильные, красивые – заинтересовали сочинскую молодежь. Модницы из числа школьниц и их кавалеры взяли за привычку засиживаться в этих заведениях. Там они с томным видом попивали черный кофе и листали французскую газету (коммунистическую «Юманите», другие в СССР не попадали). Это считалось высшим шиком. Кофе только входил в рацион советских граждан и все еще воспринимался как экзотический заморский напиток. В обществе присутствовало предубеждение против него как идеологически чуждого, вредного продукта.
«Лазурный». Один из немногих в Советском Союзе он работал круглосуточно. Мэру удалось получить соответствующее разрешение Москвы со ссылкой на то, что такой ресторан нужен для привлечения в Сочи иностранных туристов. В этой же связи в ресторане выступали «звезды» эстрады, которым позволили не ограничиваться обычным, идеологически выдержанным репертуаром. Посещали же ресторан отнюдь не только интуристы, а весь советский «бомонд», отдыхавший в Сочи.
Другой первоклассный ресторан – «Старая мельница», оседлал вершину горы Бытха. П.И.Бажанов лично руководил разработкой концепции, дизайна, интерьера ресторана. В архивах папы я нашел служебную записку, в которой говорилось: «Как представляется, ресторан „Старая мельница“ должен выглядеть следующим образом: большая мельница с вращающимися, скрипящими крыльями. За плетнем – подсолнухи, кукуруза, арбузы, огородное пугало. На ветхом срубе висит конская сбруя, лежат дрова. На крыше гнездятся аисты. Во дворе посетителей встречает мельничиха в старинном русском наряде. Она ведет гостей в хату мельника, сажает за срубленный из дуба стол. К столу подходит мельник в косоворотке и красных сапогах, обслуживают гостей дочери мельника, тоже в традиционных одеяниях».
Вместе с ведущими кулинарами отец составил меню ресторана: соленья, домашняя колбаса, отварная говядина, жареные цыплята, вина, квас и т.д. По настоянию мэра от близлежащего санатория Министерства обороны к «Старой мельнице» проложили асфальтированную дорогу и пешеходную тропу среди чудесного парка. Через некоторое время в ресторане сделали землянку, восстанавливающую фронтовую обстановку Великой Отечественной войны.

К концу 1970-х годов, ситуация в городе-курорте стала меняться к худшему. У власти оказались люди нечистые на руку, которые в конце концов были отправлены за решетку. Но об этом поговорим позднее. Пока же отмечу, что разложение в сочинских верхах не могло не начать распространяться на все сферы жизни.
Мой одноклассник рассказывал, как он за взятку был назначен руководить знаменитым «Кавказским аулом» и командовал рестораном. При нем настоящие блюда стали подаваться только коллегам, дельцам из сферы обслуживания. Это клиенты первой категории. Ко второй относилось всякого рода начальство. Его потчевали объедками. Недоеденные салаты оливье и недопитая «пепси-кола» – все шло в ход при сервировке стола для начальства.
«Что касается таких, как ты, – продолжал друг детства, – очкариков, живущих на убогую советскую зарплату, то мы стараемся вас в ресторан не впускать вообще. Ради этого придумали входные билеты. Увидит кассир твои очки за три рубля и сочувственно сообщает, что билеты кончились. Ну а если очкарик все-таки прорывается в ресторан, то мы его кормим самыми негодными отбросами, да еще и обсчитываем по-крупному».
В тех случаях когда внутрь ресторана удавалось прорваться без писем, блата и взяток, посетителей поджидали суровые испытания.
В кабинете директора ресторана «Огни Сочи», тоже крупного взяточника, на стене появилось переходящее знамя ударника коммунистического труда. Сидя под знаменем, директор совершал сделки с вверенными ему деликатесами, т.е. пускал налево черную икру, красную рыбу, колбасу-сервелат. А в зале посетителям объясняли, что предложить им на обед нечего. Как-то при мне в кабинет вбежал взволнованный администратор и пожаловался, что группа москвичей разбушевалась, требует еды.
– Дай им яичницу с хлебом, и пусть или уймутся, или убираются по-хорошему, – небрежно скомандовал ударник коммунистического труда. – Нет от этих нахалов покоя!
Если же в общепите и угощали, то подчас весьма неаппетитными блюдами. В вышеупомянутом сочинском ресторане «Кавказский аул» нашей компании подали вместо цыплят-табака куски покрытой волосами, полусырой курицы. Мой сосед, повар в ресторане «Горка», признавался, что мочится в тесто при приготовлении пельменей. Зачем? Ради спортивного интереса!
Еще один знакомый по детству в начале 1980-х годов хвастался своими «подвигами» в роли бармена на прогулочном катере. На винных бутылках он подменивал этикетки. Под видом дорогих «Черных глаз» сбывал дешевый портвейн, смешанный с густым чаем (для придания напитку нужной черноты). Если отдыхающий заказывал коктейль, то в стакан сливались любые попавшие под руку остатки. «Я, – рассказывал бармен, – наблюдал, как эти приезжие пижоны из Москвы и Ленинграда со своими чувихами томно, через соломинку посасывают коктейли, и про себя хохотал. Вот козлы!

В начале 1950-х годов в сочинских продовольственных магазинах продавались некоторые деликатесы. С промтоварами дела обстояли гораздо хуже. Ведь деликатесы (черная и красная икра, дичь, колбасы) были своими, советскими. Промтовары тоже реализовывались отечественные, но в отличие от продуктов питания высоким качеством они не блистали, да и ассортимент их не отличался разнообразием.
Фото 1956-го года

Женщинам предлагали рейтузы из синей или зеленой байки, бесформенные толстые чулки, допотопные туфли, духи одной марки „Красная Москва“. Готовая одежда в продаже отсутствовала, надо было обшиваться самостоятельно или с помощью частных, не совсем легальных портних. Но для этого требовались ткани, а за ними приходилось охотиться, простаивая в очередях днями и ночами. Счастливчикам доставались ситец, штапель, крепдешин с невыразительным блеклым рисунком. Ассортимент мужских изделий сводился к фуражкам, тяжелым башмакам, паре тканей (габардин, сукно), одеколону „Шипр“. Детских товаров не существовало в природе. Молодые родители сами мастерили пеленки, ползунки, распашонки, коляски.
После смерти Сталина в 1953 году новые руководители СССР поставили вопрос о выведении легкой промышленности из полного загона. Что-то стали выпускать государственные предприятия. Возник и теневой бизнес, подпольные цеховики, которые, игнорируя официальный запрет на частное предпринимательство, изготавливали кое-какой ширпотреб. Особую прыть проявляли сухумские умельцы. Сочинцы в массовых количествах посещали столицу Абхазии и приобретали там из-под полы, с рук одежду и обувь. Мама, собирая в 1957 году сестру Вику на учебу в новочеркасский вуз, достала в Сухуми вегоневую (из отходов шерсти) кофточку и лаковые туфли.
Тогда же в сочинском порту стали пришвартовываться первые круизные теплоходы с интуристами. Их встречали толпы горожан. Зарубежные гости швыряли с палуб на пирс носки, трусы, майки, жевательные резинки, а местные ребята (да и взрослые тоже) дрались за право обладания этими „сокровищами“. Интуристы, наблюдая за потасовками, скалили зубы и щелкали фотокамерами.
Постепенно морских интуристов становилось в городе все больше, и они вызвали к жизни фарцовщиков. Последние выторговывали (или отнимали силой) у иностранцев разнообразный дефицит и перепродавали его доморощенным „стилягам“. В моду вошли джинсы, особенно с фирменными наклейками „Lee“ и „Levi's“. Обладатели этих штанов, а заодно итальянских нейлоновых рубашек и плащей, окрещенных „болоньями“, превратились в самых желанных кавалеров для девчат.
– Ирка, – кричала красотка-соседка подруге с балкона, – а я познакомилась с Юркой!
– Что за Юрка?
– Да ты чё, сдурела? Это же тот, у которого „левиз“ и бирюзовая „болонья“!
А модницы гонялись за импортными туфлями на толстой подошве и американскими сигаретами «Мальборо», «Винстон», «Кент». Поскольку добыть это курево не всегда и не всем удавалось, модницы впихивали советские сигареты в американские «фирменные» пачки. И щеголяли ими на пляже и танцплощадках, в парках и барах. Ценились иностранные кофточки, свитера, нижнее белье, часы, мебель, обои, да и почти другой товар «из-за бугра». Слово «импортные» звучало как синоним высокого качества.
В начале 1980-х годов я отправился в ГАИ на техосмотр „Волги“, прихватив с собой набор душистых китайских стирательных резинок. В СССР таких тогда не было; отечественные плохо пахли и еще хуже стирали. Думал, порадую гаишников. Поставил машину на стоянку отделения ГАИ, подошел к будке инспектора, протянул документы на машину и после короткой паузы положил рядом заготовленный сувенир.
– Это что? – спрашивает милиционер.
– Резинки!
Инспектор, не долго думая, вынимает из пачки одну из стирательных резинок и забрасывает ее себе в рот. Мне аж дурно стало. Пытаясь предотвратить скандал, кричу:
– Товарищ лейтенант, это не жевательная резинка, а стирательная!
– Да? – невозмутимо откликается инспектор, – а жуется ничего. И вкусная, гадина!
С трудом уговорил его вынуть резину изо рта. Лейтенант тут спрашивает:
– А она хорошо стирает?
– Отлично, – отвечаю, а сам волнуюсь, вдруг, нет.
– И чернила берет?
– Берет, товарищ лейтенант. Говорю, а беспокойство, что провалю техосмотр, продолжает нарастать.
Но резинка не подвела. Инспектор быстро и дочиста стер ею целое слово, написанное чернилами. И остался очень доволен. Проштамповал мне техпаспорт, даже не подойдя к машине.
Вот такие времена были! Попробовал бы я сейчас задобрить инспектора ГИБДД резинкой, стирательной или жевательной, будь она хоть трижды американской или китайской!
В Сочи иностранный ширпотреб, пусть в ограниченных масштабах, но все же попадал и в государственную торговую сеть. Чтобы добиться этого, мэр П.И.Бажанов с коллегами обивал пороги начальников в Госплане, министерствах финансов и внешней торговли, в других высоких инстанциях. Там иногда шли навстречу, но в обмен на многочисленные услуги. Одни требовали выделения их ведомству земли на Черноморском побережье под строительство домотдыха, другие желали льготных путевок своим сотрудникам, а заодно и родственникам в сочинских санаториях и т.д.
В итоге Сочи получал больше импортных товаров, чем подавляющее число других городов СССР. В 1960-х годах в сочинской торговой сети появились югославские мебельные гарнитуры, богемское стекло, польская парфюмерия, модная женская одежда из ГДР, индийские ткани, бельгийские мужские костюмы. Отдыхающие жадно набрасывались на эти товары, сетуя, что у них дома такое добро „днем с огнем не сыщешь“.
Мощно ворвался в сочинскую жизнь рок-н-ролл, позднее эстафету подхватил твист. Танцевали их повсеместно. С нами боролись учителя и газеты, инструкторы горкома ВЛКСМ и бригадмильцы. Безуспешно. Сумасшествие лишь усиливалось. Наиболее изощренные тем временем ударились в джаз. В моем классе учился парень из простой семьи. Отца не было, мама работала медсестрой в санатории. А сын с утра до вечера играл на саксофоне в полуподпольном оркестре и постоянно на школьных уроках пропагандировал звезд американского джаза, от Дюка Эллингтона до Кэнни Борелла. Заодно он восхвалял все американское.
Как-то на уроке обществоведения учительница спросила, как мы представляем себе людей коммунистического общества. К доске вышел мой одноклассник-саксофонист, достал из кармана фотографию мускулистого мужчины и полуголой женщины и заявил: «На фото «Мистер Универсум» Стив Ривс, чемпион мира по культуризму, и звезда Голливуда Мэрилин Монро. Такими, как они, и должны быть люди коммунистического завтра».

После разговора о питании сочинцев в 1950-1960-е годах логично вспомнить, сколько и что народ пил.
Сразу признаем, что пил много. Выпивали отдыхающие, прибывавшие на побережье расслабиться. В сочинской газете „Черноморская здравница“ была ежедневная рубрика „Гости вытрезвителя“. В ней рассказывалось об алкогольных похождениях самых различных и, как правило, заслуженных людей – профессора из Москвы, авиаконструктора из Киева, терапевта из Минска, морского капитана из Владивостока. Гостей вытрезвителя штрафовали, и если они отдыхали в курортном учреждении (санатории, пансионате и т.п.), то лишали путевок и отправляли восвояси. Вдогонку летела депеша о „художествах“ гражданина на курорте.
Сочинцы тоже уважали алкоголь. „Приезжие гуляют, а мы что хуже“? – вопрошали местные поклонники „зеленого змия“. Некоторые угощались на работе, большинство – дома. На нашей улице устраивались пирушки – то свадьбу гуляли, то дни рождения отмечали, то кумовьев с Кубани приветствовали. Иногда на эти мероприятия приглашали нас, подростков. Мама не отпускала меня, восклицая: „Сначала будет пьянка, а затем потасовка, да еще с ножами и топорами“. Мама оказывалась права.
Многие ровесники из нашего двора, увы, тоже увлекались спиртным. Сосед Женя, напившись, обязательно лез в драку. Другой сосед, Сережа, рос в строгой казацкой семье, где родителей принято было называть на „Вы“, беспрекословно им подчиняться, вести себя смиренно. Но стоило парню подрасти, начать зарабатывать на жизнь, как и он испортился. Напившись, бродил по улицам, выбирая кого-нибудь из встречных в качестве жертвы, и остервенело избивал.
Пили в Сочи не только много, но и не очень качественные напитки. В домашних, часто антисанитарных условиях изготавливали самогон, брагу и вино. В грузинских семьях гнали чачу, виноградную водку. Я дружил с грузином Ревазом, и когда бывал у него в гостях, родители парня неизменно угощали меня чачой, приговаривая: „Водку малолеткам пить нельзя, а чачу можно, она полезная!“ На самом деле чача была плохо очищена и к тому же издавала неприятный запах, который долго витал вокруг употребившего это зелье. Иногда Реваз приносил чачу и бутерброды с аджикой в школу, и тогда пировал весь наш класс.
Из магазинного спиртного особой популярностью пользовались кубанские портвейны и другие крепленые вина. Красное вино народ называл „чернилами“, белое – „дерматином“. И заслуженно – вино было ужасным, но зато очень дешевым и убойным, за что его и уважали.
Что касается меня, то я в течение недели втихаря сливал из папиных бутылок разные напитки в одну посудину. Получался дикий коктейль из коньяка, наливок, ликеров, вина. С приятелями мы распивали эту смесь в выходные дни где-нибудь у моря или в кафетерии. Случалось, что угощались и одеколоном, это считалось проявлением мужественности.
Кстати, в сочинских барах тоже подавали весьма оригинальные коктейли, состоявшие из целого букета мало совместимых жидкостей. Например, коктейль „Кубанский“: 30 гр. коньяка „Арарат“, 30 гр. ликера „Шартрез“, 20 гр. наливки „Малиновая“, 50 гр. „Советского шампанского“, 20 гр. вишневого варенья. Что замешивали в коктейль на самом деле, „Арарат“ или щедрую порцию денатурата, особой роли не играло. Все равно получалась бурда, которая если не убивала, то тошноту уж вызывала точно.
Мы прибыли в Сочи из западноукраинского города Львова. После шикарного львовского железнодорожного вокзала, выполненного в классическом стиле, сочинский смотрелся жалко: одноэтажная будка у перрона – вот и весь вокзал. Нашу семью усадили в автобус и повезли мимо деревянных хаток, грубо сколоченных из досок, частично покрытых штукатуркой. Сестра Вика, привыкшая к пышной львовской архитектуре, поинтересовалась у взрослых: „Когда же кончится деревня и начнется город?“ Сопровождавший нас местный энергетик пояснил: „Это и есть город Сочи“.
Трехэтажный дом в Крестьянском переулке (ныне – улица Войкова), куда поселили нашу семью, выглядел белой вороной на фоне окружающих трущоб. Конечно, в Сочи тепло, и в трущобах жить не столь ужасно, как в более холодных широтах. Но граждан донимали иные напасти. По весне обычно сонная река Сочи, напоенная талыми водами с гор, просыпалась, выходила из неукрепленных берегов и заливала первобытные жилища до крыш. Под дощатыми потолками бараков плавали матрацы и табуретки, а люди в ожидании милости природы ночевали под открытым небом. Особенно страдал густонаселенный район от места, где сейчас расположен городской рынок, до впадения реки в море.

Район пользовался дурной славой эпицентра преступности, и туда, действительно, страшно было заходить, особенно в квартал, где ныне находится Центральный почтамт и до недавнего времени стоял кинотеатр „Спутник“.
Похоронив Сталина, обновленное советское руководство принялось мириться с Белградом. И вот на белоснежном теплоходе югославский вождь прибывает в Сочи. В преддверии столь эпохального события лихорадочно прихорашивали город. Буквально в одну ночь был ликвидирован огромный базар у морвокзала, и на освободившейся площади, тоже в мгновение ока, разбили пышный сквер – с деревьями, кустарниками, цветами. А еще были снесены хибары в районе морвокзала, вычистили улицы, покрыли свежей белой краской бордюры тротуаров.
Встречать маршала Тито на площади у морского причала собрался чуть ли не весь город. Перед народом выступили и сам высокий гость, и сопровождавший его член советского руководства Анастас Микоян.
Отец находился на трибуне рядом с ораторами, а я с мамой и сестрой стоял в толпе на площади. Я хорошо запомнил яркую, страстную речь Иосипа Броз Тито на отличном русском языке. А вот выступление Микояна вызвало у меня замешательство: он говорил с таким сильным акцентом, что я почти ничего не понял. И я спросил маму: «Так кто же из них иностранец, Тито или Микоян?»

При всей важности санаторного хозяйства П.И.Бажанов перенес акцент на развитие сети гостиниц. В то время как капвложения в санаторный сектор увеличивались на 25% ежегодно, в гостиничный – на 200%. „Санатории, – разъяснял мэр, – очень затратны и мало вместительны. За счет гостиниц мы сможем обслуживать дополнительно десятки тысяч отдыхающих“.
В течение десятилетия (1960-1970 гг.) Сочи украсился 19 комфортабельными гостиницами: „Сочи“, „Чайка“, „Жемчужина“, „Восход“, „Магнолия“, „Приморская“ (вторая очередь), „Прибой“, „Москва“, „Ленинград“, „Платан“, „Хоста“, „Кубань“, „Россия“, „Черноморская“, „Маяк“, „Бирюза“, „Камелия“, „Горизонт“, „Бригантина“.

Но получалось далеко не все так, как хотелось и требовалось. Я перечитываю папины статьи за 1960-е годы в главной сочинской газете „Красное знамя“ (затем переименованную в „Черноморскую здравницу“). Раз за разом мэр критикует строителей за срыв плана, долгострой, некачественную отделку, нарушение технологического процесса, удорожание объектов. В статьях вскрываются и причины проблем. Неспособность стройтрестов как следует организовать дело, правильно спланировать сроки и объемы строительства в течение года. Наплевательское отношение некоторых руководителей к обеспечению жильем своих сотрудников. В данной связи чаще других упоминаются железнодорожный узел станции Сочи, трест ресторанов, контора связи, курортпромторг, пивзавод.
Конец 60-х. Адлер. В районе Фабрики курортных товаров

Под личным патронажем П.И.Бажанова была создана сувенирная фабрика, в ней было налажено производство различных изделий из тиса, самшита, кости, пластмассы, ракушек.
Магазин курортных товаров

Текст взят тут
Фото взято тут, также тут
Топик на Привете о мероприятии посвященному 100-летию со дня рождения Петра Игнатьевича

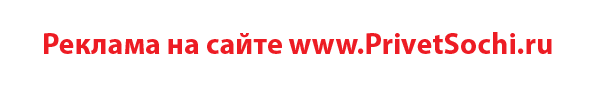
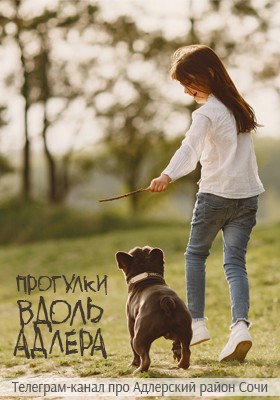
Комментарии (89)
RSS свернуть / развернутьmisha
ой супер!
спасибо за фото!
Nitro
kaktus
avStar
ree4
neo
fire-fly
palsavpr
juri
ree4
Shuruban
Diablo
И квартиры быстро давали…
aleksey_morozov
misha
aleksey_morozov
juri
avStar
Возможно кадровая политика на это время изменилась.
Так что, ничего в словах одноклассника необычного нет.
avStar
Garripil
Garripil
Elena1
bern
korlik
Spointer
Предвзято очень.
lyuda
lyuda
В тексте все наоборот.
avStar
В 1964 году поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений со специализацией по странам Восточной Азии.
В 1968—1970 годах находился на стажировке в Наньянском университете (Сингапур), совершенствуя знания пекинского и шанхайского диалектов китайского языка.
В 1970 году окончил МГИМО по специальности экономист-международник.
В 1970—1971 годах — ответственный сотрудник Отдела Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел СССР.
В 1971—1973 годах — ответственный сотрудник I Дальневосточного отдела МИД СССР.
В 1971—1973 годах — заочный аспирант Института Дальнего Востока АН СССР.
Март 1973 года — август 1979 года — вице-консул Генконсульства СССР в г. Сан-Франциско (США).
lyuda
avStar
По тексту же видно, воспоминания сына, который жил в Сочи.
avStar
К концу 1970-х годов, ситуация в городе-курорте стала меняться к худшему. У власти оказались люди нечистые на руку, которые в конце концов были отправлены за решетку. Но об этом поговорим позднее. Пока же отмечу, что разложение в сочинских верхах не могло не начать распространяться на все сферы жизни.»
Вряд ли это детские воспоминания, больше похоже на воспоминания отца.
lyuda
В описаниях его личный опыт общения с сочинскими знакомыми в Сочи.
avStar
Papashka
А из песни слов не выбросишь.
avStar
Фото приятнее глянуть, чем читать это…
Papashka
Про действие власти правильно подать.
Там дальше финансирование.
Убили газету Сочи. Даже отравленные деньги не помогли.
avStar
Papashka
читайте вдумчиво
avStar
Остальное вполне правдиво. Не знаю как насчет «мочиться в тесто», но «несуны» были во всех сферах деятельности. Автор, будучи сыном мэра, с молкомбината, может быть, ничего домой не носил, но друзья-коллеги молпродукты явно в магазинах не покупали.
Фото все как из детства/молодости. Даже вкус Лимонной горькой помню.
В автоматах по продаже газировки справа была дверка для обслуживания и заправки. Замок часто ломался, его заменяли на замок другой конструкции, а от «родного» оставалось круглое отверстие диаметром сантиметра два. Мы, пацаны, палочкой размером немногим больше карандаша через это отверстие нажимали на один рычажок и автомат выдавал сначала струю сиропа, а потом лилась чистая газировка, которая нас интересовала меньше. Поэтому стакан убирался в сторону, нажимаешь на рычажок еще раз и еще порция сиропу. Примерно через пять таких манипуляций получаешь стакан сиропу.
Были еще автоматы по продаже вина. С этим дело обстояло по-другому. В кассе нужно было купить жетон (цену не помню что-то порядка 20 коп.) автомат взамен на жетон наливал 125 гр. портвейна или вина «Кубань». То и другое было с большой примесью воды, но отдыхающие пили! Я попробовал разок и больше не захотелось.
Не всем! Это как повезёт. Моим родителям первый раз повело и в 1953 году получили сначала подселение, а потом сосед съехал и нам осталась двухкомнатная квартира на Бытхе. Отцу, приехавшему сюда после войны из Сталинградской области Бытха очень не нравилась, так как туда не ходили автобусы, а пешком на гору ему было непривычно. В 1955 году дом поставили на капремонт, а нас «временно» выселили в район «Новый Сочи» в барак. Отец через полтора года умер и это «временно» растянулось до 1966 года, когда бараки было решено сносить.
В 2010 году я сделал снимки того, старого бытхинского дома
Топик навеял много воспоминаний особенно тяжелые воспоминания связаны с фото работ по регулированию реки Сочи. Мой отец работал экскаваторщиком. Во время работы чуть ниже железнодорожного моста у него горлом пошла кровь, его увезли во вторую городскую больницу, там он и умер в январе 1957 года.
Автору огромное СПАСИБО!
kvazimodo
Shuruban
Shuruban
kvazimodo
Shuruban
bern
Shuruban
Под палящим солнцем носили нейлоновые рубашки.
Помнится, пришли компанией на пляж «Ривьера», разделись, я свою первую новенькую нейлоновую (купленную за сумасшедшие 70 рублей!) положил на расстеленную газетку. Все пошли купаться, а я остался у вещей, закурил и начал что-то читать.
Слышу крики: «Горит, горит»! Поднимаю голову: где горит? Все смотрят на меня. Горит газета, а на ней моя дорогущая нейлонка оплавилась вконец…
Когда прикурил непогашенная спичка упала на сухую газету и…
Короче, домой поехал с голым торсом. :(
kvazimodo
shaitan93
Piton
SerStar
bern
bern
SerStar
Гавно пахло розами в те времена.
Алкаши выпивали качественной домашней наливки 50 грамм и после этого бежали домой спать, чтоб с утра строить коммунизм.
Фарцовщиков не было, а были засланные шпионы.
Шпионы щеголяли в болонье, работники общепита не ссали, а свою кровь из вены добавляли.
Я четко помнил в начале 80 — х когда мечтали когда найдем миллион с пацанами напротив Жемчужки.
5тыр поступить в приличный институт как купить билет.
10 в суперпрестижный.
avStar
Тогда был Шахматный международный турнир имени Чигорина.
Нам, пацанам, был доступ в это время.
Кстати, среди нас шахматистов был сегодняшний миллиардер и владелец Магнитов по всей России, Галицкий Сергей.
avStar
Garripil
Их всегда много у каждого было ;-)
Миллион пришлось зарабатывать уже взрослым.
avStar
Жаль, с тех пор ни что не пролетало))))))
Garripil
Благодарю Вас от души…
Lesnik
aerolift
antovian
Просто ценности со временем и с возрастом меняются.
kvazimodo
AlisaObychnaya
В результате «выдержек» получилось не жизнеописание города и его обитателей, а в большей мере свалка людских пороков и преувеличенных проблем.
Возможно, навеяны они сыну Бажанова детскими воспоминаниями тех проблем, о которых дома говорил его отец. Ведь когда такие, как Бажанов и тысячи других сочинцев, строили великолепный город-курорт, находились и десятки жуликов, воров, фарцовщиков и прочих проституток, которые на этих тружениках паразитировали, причем с помпой и подчеркнутым самолюбованием. Вот это не могло не беспокоить такого человека, как Бажанов. А сынок все это слышал, на ус мотал, по детскому восприятию и малолетству возвел в абсолют.
И после «взятых произвольно выдержек» получился почти что пасквиль на всех сочинцев и их дела. К сожалению.
DefEr
SerStar
молодежиилирабочего классаи тд в других местах достаточно много можно прочесть и где житие — бытие умалчивается. Это как генеральские мемуары о Великой отечественной. Туда — сюда пару десятков тысяч людей, безвозратных потерь 30%. Награда за заслуги отРодиныот того кто дал.Что было, то было. Без дня не бывает ночи.
Сделаю топик Воспоминания Бажанова — 2.
Там будет светлая сторона.
avStar
Где воспоминания одного генерала умалчивают о тысячах человеческих судеб. Типа про величие страны, а не чего там какие -то мелкие людишки. Про окопную правду, а не блиндажную где сонм адьютантов и личных ординарцев.
С другой стороны, свойство человеческой памяти запоминать предпочтительно хорошее ;-)
avStar
Shuruban
«О дряни»
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина…
В.В.Маяковский
[1920-1921]
Полностью здесь.
DefEr
shankar
Это как же надо искорежить собственное сознание, чтобы такое с умным видом написать!
Лично я хорошо помню далекие советские времена, когда реклама кофе, как и чая, шоколада, какао и т.п. осуществлялась в популярных всероссийских журналах. Хорошо помню журнал «Огонек» в этом качестве.
Вот, навскидку мгновенно нашел в интернете в гораздо более позднем издании «Огонька» (1961 г.) здесь. Читаем: «Этот ароматный, бодрящий напиток нельзя не любить… Но, пожалуй, больше всего любителей черного кофе. Небольшая чашка натурального кофе повышает настроение».
Так что кофе в СССР никто не запрещал, и даже его реклама была обычным делом.
Поэтому та чушь, какую пишет здесь Шанкар о запрете кофе в Союзе ССР, действительно «в сознание не укладывается». Увы. Остается только удивляться, с какой целью ему понадобилось, мягко говоря, вводить блогеров в заблуждение? Просто чтобы лягнуть прошлое? Так ведь получился полный конфуз.
DefEr
Кофе до середины 50-х считался буржуазно-аристократическим (особенно в 20-30 -е года )напитком (противовес — общенародный чай) и стоил очень дорого. Позволить себе могли только обеспеченные люди.
«Наши люди в булочную на такси не ездят».
В романах его пили шпионы, вредители и мещане.
В общем логика была что кофе — непозволительная роскошь, буржуазное излишество.
Реабилитировали кофе в конце 50-х, видимо по экономическим причинам. Если раньше СССР тратил на кофе очень нужную валюту, то после краха классического колониализма (конец 50-х) появилось много молодых стран, производителей кофе. Так как СССР со многими завязал политические и экономические связи, где за поставки расплачивались зернами кофе. В связи с тем, что внутрисоюзный сбыт ранее был мизерным, то реклама была очень к месту, а реклама в те времена имела колосальный эффект.
avStar
Да, эта бессмертная фраза навеяла сцену из романа Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Про кофе, а также про картофель.
Суть такова.
Боярин собирается по зову царя-батюшки на ассамблею — нововведение Петра I. И при этом ругается нещадно на домашних: опять, мол, царь на ассамблее заставит «картофь жрать и кофий пить», а так не хочется, «тьфу, нечистая сила!».
Так что «кофий», можно считать, и тогда был «буржуазно-аристократическим», и ввел это положение не кто иной, как сам самодержец Всея Руси, император Петр I. Какая тема пропадает! Куда до неё нынешним шелкоперам.
Про картофель умолчу, поскольку у аффтора топика не хватило решимости и его объявить «буржуазно-аристократическим» дефицитом, чуждым советскому строю. И на том спасибо.
DefEr
avStar
Maat
Зерна кофе, как и соль, ткани, свинец и пр. выменивали на невольников.
Естественно, не каждый убых мог себе это позволить.
В современных столовых совершенно невыгодно экономически варить черный кофе. Ни в советское время, ни теперь. Ибо каждый знает, что кофе хорош не из котла, а только что сваренный в небольшой специальной посуде. Никто не будет пить кофе, сваренный в чайнике (а то и котле) заранее. Именно поэтому кофе нужно и сейчас заказывать в кафе или ресторане. И нет здесь никакой идеологии и «буржуазного излишества», как представляет почему-то Австар.
DefEr
Maat
А вот в Москве и в 60-е годы черный кофе (отнюдь не растворимый) можно было получить даже в самых мелких кафешках-забегаловках. К удовольствию многочисленных студентов.
Может, всё дело в менталитете и привычках, складывающихся веками?
DefEr
Maat
Garripil
Garripil
SerStar
Maat
privetsochi.ru/blog/7434.html
avStar
Papashka
Maat
Papashka
Maat
Elegance
Doser
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.